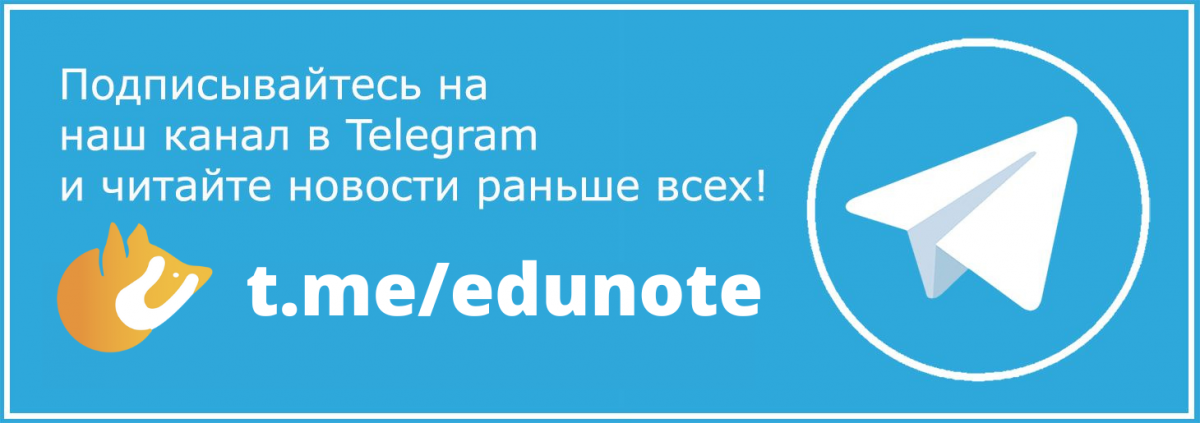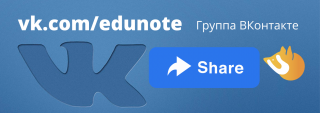Самораскрытие является спорным и в некоторых психоаналитических течениях даже табуированным терапевтическим инструментом. В то время как в гештальт-терапии или когнитивно-поведенческой психотерапии допускается раскрытие терапевтом своей личной жизни, в психоанализе такое вмешательство в процесс может расцениваться как этическое нарушение. Но все ли психоаналитики так едины в этом мнении?
Особенным образом на самораскрытие смотрят интерсубъективные и реляционные психоаналитики. Реляционный психоанализ появился в США в 80-ые годы. В его истоках лежат теория Самости Хайнца Кохута, интерперсональное направление Салливана и Томпсон, и более ранние течения, к примеру, теории Ференци и Винникота.
Гарри Стек Салливан
По сути это зонтичный термин, который вмещает в себя многие различные воззрения, и поэтому не существует общего образа классического реляционного аналитика. Основными особенностями этого течения является работа с Самостью пациента, интерсубъективностью, самораскрытием и разыгрываниями. В рамках темы
обратимся к статье Филипа Бромберга – нашего современника, одного из видных продолжателей реляционной парадигмы, которая называется
"Самораскрытие: не просто допустимое, но необходимое".
В начале статьи он подчеркивает, что у аналитиков есть основания остерегаться самораскрытия и не использовать его необдуманно, поскольку это может приводить к гипервозбуждению, ощущению небезопасной атмосферы, остановке возможности проявляться субъективности пациента и даже ретравматизации. Но, несмотря на риски, он видит необходимость в пересмотре техники психоанализа в этом вопросе. И говорит о такой концепции терапевтического действия, которая основана на процессе (а не на содержании и результатах), и
"центральным аспектом которой является совместная обработка коллизий между субъективностями пациента и аналитика". То есть он видит необходимость во главу угла ставить сам процесс взаимоотношений в кабинете – то, как сосуществуют аналитик и пациент вместе.
Это означает, что для реляционного аналитика намного важнее не столько то, что происходит исключительно внутри пациента, сколько то, что происходит между всеми участниками процесса – то есть в интерсубъективном пространстве между ним и пациентом. Почему же так важен акцент на этом интерсубъективном поле между пациентом и терапевтом? Почему мы вообще должны учитывать субъективность терапевта?
Клара Томпсон
Реляционные аналитики говорят о том, что у каждого человека, помимо классической известной структуры Ид-Эго-Супер-эго, также есть такая составляющая как Самость. У Самости есть много разных определений, под ней иногда понимается субъектность, или личность в целом, но в частности, это -
структурированное отношение с другими. Самость формируется в результате взаимодействия с родителями и другими людьми и зависит от личностей этих людей и культуры, в которую субъект погружен.
Реляционные аналитики полагают, что у всех из нас есть Самость и у каждого – она уникальна. Кроме этого, есть различные состояния Самости, и в частности,
диссоциированные аспекты, их также можно обозначать как не-Я или плохой-Я, которые могут быть проявлены исключительно в интерсубъективном взаимодействии.
Эти части плохого-Я диссоциированы во многом из-за огромного чувства стыда, который однажды испытал и продолжает испытывать пациент. Поэтому просто так их невозможно обнаружить.
Но они пытаются обрести существование в отношениях, и аналитик может ощутить их только личным образом, посредством своей субъективности, как бы пропуская через себя всё происходящее в кабинете. Получается, обнаружить такие аспекты Самости мы можем не рационально, к примеру, анализируя свободные ассоциации и предлагая клиенту интервенции или интерпретации, как это обычно происходит, а только эмоционально. В этом нам как раз помогает контрперенос и здесь же мы подходим к необходимости делиться этим контрпереносом.
Изначально в терапии пациент приносит лишь ограниченное число состояний Cамости. Но по мере развития отношений аналитика и пациента, благодаря уменьшению чувства стыда (в том числе за счет самораскрытия), появляется возможность переживать ранее недоступные, изгнанные состояния, которые никогда не были разделены с другим, что впоследствии приводит к возможности переживать себя в разных состояниях.
Аналитик на своём примере показывает пациенту, что быть "плохим", "не таким", "стыдящимся", "ошибающимся" и т.д. – нормально. Но этого эффекта невозможно добиться в стерильной нейтральной атмосфере, где присутствует сгорающий от стыда пациент и величественно молчащий аналитик.
Филип Бромберг
Бромберг говорит о том, что, чтобы удачно использовать самораскрытие, нужно, чтобы пациент ощущал себя в безопасности в кабинете и не был аффективно перегружен тем, что терапевт расскажет ему о себе. Для того чтобы соблюсти эти критерии, нужно быть со-настроенным с пациентом.
Состояние со-настроенности помогает "быть", проявляться и субъективности пациента, и субъективности аналитика, что создаёт между ними интерсубъективное пространство.
Бромберг выделяет два типа самораскрытия аналитика: это
раскрытие аналитиком опыта процесса (в частности раскрытие его контрпереноса, то, что он испытывает в кабинете) и раскрытие
биографических данных, то есть каких-то моментов своей личной истории.
Если аналитик готов раскрыть личную историю, он должен быть еще более со-настроен, нежели в случае самораскрытия своего переживания процесса. Он должен понимать всю возможную сложность эмоциональной реакции пациента и отслеживать, не усугубляет ли это его диссоциацию. Но даже если это произойдет, это не считается терапевтической ошибкой. Только ошибившись, точнее соприкоснувшись с нежелательной реакцией, аналитик понимает, как правильно. Более того, в таком случае сам пациент видит, что терапевт учится у него и, что самое важное,
переживает за то, чему учится.
Как может выражаться самораскрытие?
По сути это любые искренние слова о том, что с вами как с аналитиком происходит в рамках отношений с конкретным пациентом. Сомнения, страхи, злость, эмоциональные гипотезы – "мне представилось", "я чувствую, что что-то изменилось в нашем взаимодействии", "в последнее время я ощущаю себя более скованно на наших встречах", "мне вспомнился один эпизод из своего детства…".
Маргарет Краснопол
В заключении приведу цитату Маргарет Краснопол, американского реляционного аналитика:
"Мы выбираем, чем мы делимся с пациентами из нашего опыта, а чем нет. Самораскрытие нашего опыта возможно, особенно в том случае, если это релевантно для процесса, который сейчас проходит пациент. Это не означает, что в других случаях мы ничего не чувствуем. Важный вопрос: что мы говорим, как мы говорим и почему мы это говорим"
Таким образом, характеристика того или иного психотерапевтического инструмента зависит от парадигмы, через которую мы смотрим, и теоретического подкрепления.
Вебинар будет посвящен работе Ирвина Ялома "Хроники исцеления". Попробуем разобраться, есть ли у этого феномена границы или
терапевту всё позволено?
Мы ценим регулярное образование и заботу о повышении своей квалификации!
Вы можете подписаться на наши каналы в социальных сетях. ➡
Чтобы стать участником актуальных вебинаров, нужно выбрать интересное для вас и зарегистрироваться:
РАСПИСАНИЕ вебинаров