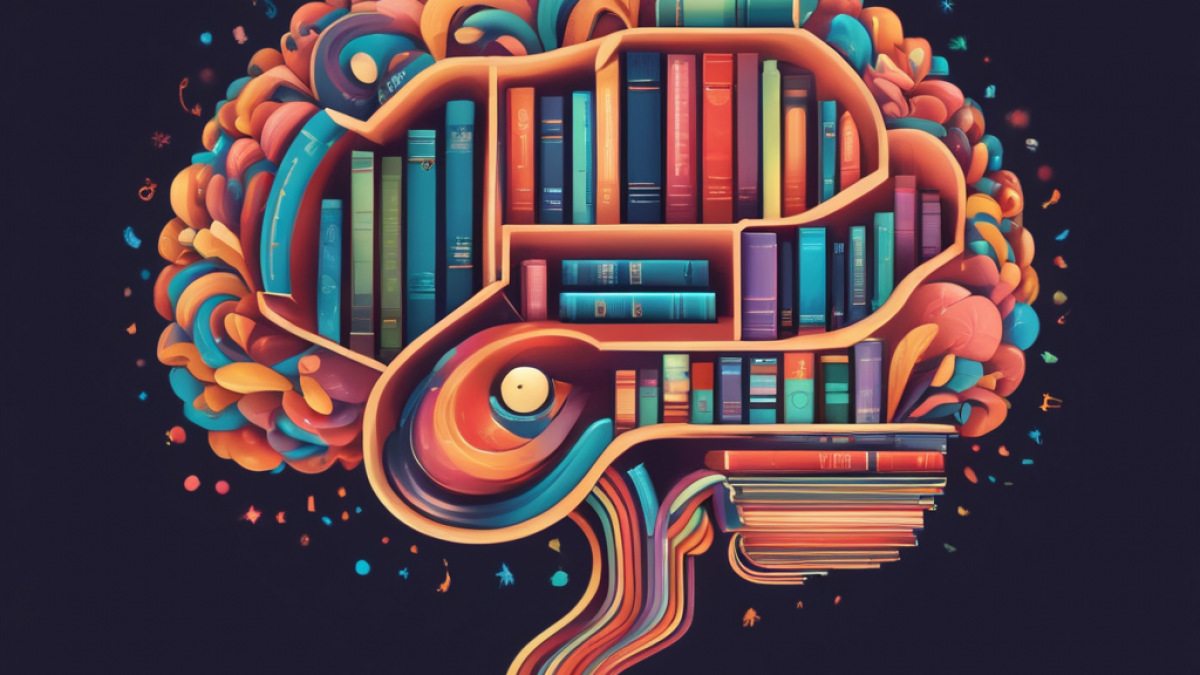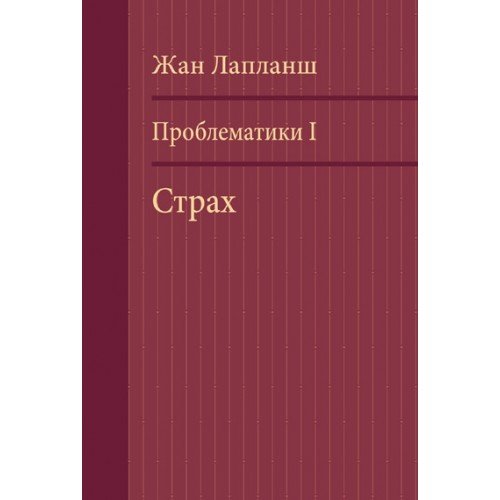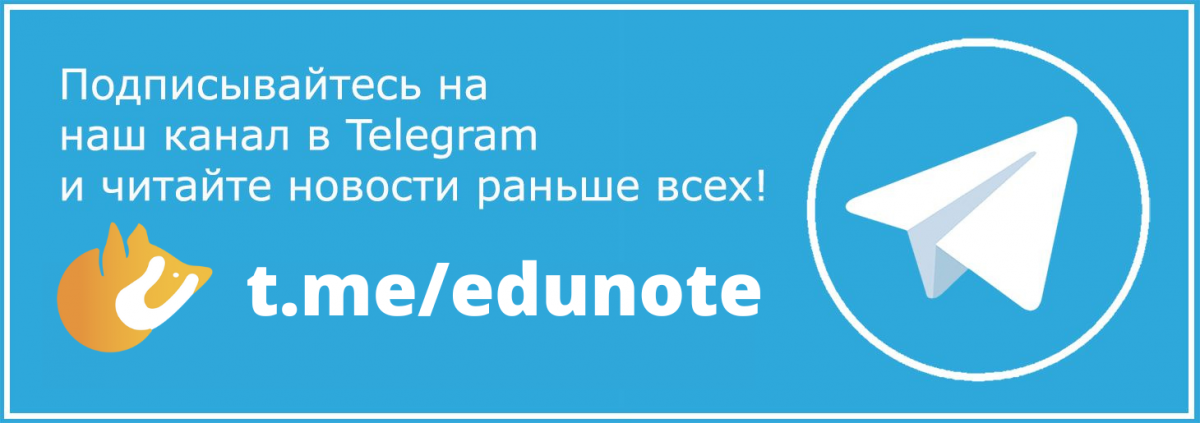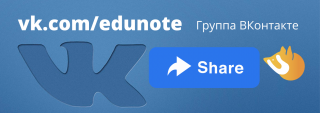Изучение речи эмигранта, речи иностранца на кушетке и соединение речи двух иностранных субъектов на анализе приводит нас к интересным открытиям. Новая публикация Марины Г. Куликовой.
Время чтения - 7 минут!
Память субъекта формируется слоями в разное время и в связи с разными событиями, она постоянно перепрописывается, на старое наносится новое, и это похоже на следы цивилизаций, существующих на основе старых. Записываются (запоминаются) только аффективно заряженные события. Они могут быть объективно не значимы (например, ребенок увидел мышь), но субъективно играть роль травмы.
Запомненное бывает только аффективным и сохраняет в системе психического аппарата аффективный заряд. Аффект стремится к разрядке через моторную активность или симптом. Симптом — это ложная связь аффекта с репрезентацией воспоминания (вещи). По сути, симптом говорит об искривленном или искаженном пути связи (это кодировка, которая отрывает аффект от содержания). Связывание в психическом аппарате репрезентаций (образов событий) с аффектами происходит разными путями, но мы точно знаем, что эти цепочки ассоциативны. Если подключена работа вытеснения, то связывание ложное (психический аппарат при запоминании искривляет цепочку кодирования).
Нам известным два пути связывания:
- метафора — по сходству, которая затрагивает видовую-родовую связь и предполагает мостики от одного к другому;
- метонимия — по смежности, которая не затрагивает связи, а подразумевает перепрыгивание с одного мостка на другой, соседний, находящийся достаточно близко.
Подробнее мы можем найти у Ж. Лапланша в "Проблематики I. Страх", глава "Сложности деривации". .
Метафорическое мышление доступно субъекту, метонимическое — нет, в нем нет логики, или вся логика перепутана. Психический аппарат в травме работает как аппарат искажения и запутывания следов, которые не должны привести к травма-воспоминанию. Анализ речи шизофренического пациента дает преобладание метонимического типа связывания вместо метафорического типа (у невротического пациента) и указывает на важность анализа речи пациента для определения его динамики и преобладающих терапевтических (обратных) связываний в логике распутывания.
Кроме того, величина аффекта и анализ защит — не единственные шкалы, по которым пограничный пациент смещается в область психотического или невротического, есть еще признаки метонимического vs метафорического процессов в мышлении, которые еще требуют своего теоретизирования и описания. Анализ защит указывает на способы связывания, но не позволяет нам понять причину использования их и способ устранения (корректировки) типов защит.
Возможно, именно существование одновременно двух процессов в психическом аппарате (регредиентного и прогредиентного, см. у Сары и Цезаря Ботелла (
Регулярный семинар Травма быть человеком), то есть процесса запоминания и процесса воспоминания, поможет понять нам понять больше об использовании одновременно двух способов маркировки (метафорческой и метонимической) в психическом аппарате и механизме апре-ку (возвращение в прошлое).
Именно случайные ассоциативные связи (
необычные слова, вырывающиеся из ряда "разумного" метафорического связывания) указывают нам на узелки и ложные связи, которые аналитик может развязать через интерпретацию. Интерпретация — это соединение того, что на поверхности (слово), с тем, что закодировано и убрано: вытесненное воспоминание, заряженное аффектом и вызывающее симптоматику, или странное (компульсивное) поведение. Интерпретация не поддается обычным законам обычной человеческой речи, выглядит как что-то очень интуитивное и подчиняется законам химеры (ДеМюзана): между этими двумя (Анализант и Аналитик) есть какое-то понимание, не доступное другим.
Если хотите, их разговор внешне напоминает разговор начальника полиции с начальником разведки из кинофильма "Приключения Принца Флоризеля". Так или иначе, они общаются на уровне предсознательном, где ниточки смыслов выведены и заметны только для них самих, но не для стороннего наблюдателя.
Речь о вытесненном можно сравнить с каталогом, в котором к воспоминаниям ведут ниточки, к которым существуют ярлыки, но они либо перепутаны, либо спрятаны, если не удалены окончательно. Метод катарсического присоединения и разрядки через аффект, который предложил в свое время Ференци, был отвергнут Фрейдом, потому что позволял аффекту вырываться на поверхность без образования смыслов. Возможно, вспомнить что-то очень травматичное в присутствие терапевта в кабинете (в безопасной среде) поможет клиенту избавиться от болезненных воспоминаний, но Фрейд интуитивно отвергает это метод и продолжает настаивать на соединении смыслов и аффектов (клиент должен сам соединить и назвать, что с ним произошло и реконструировать свою историю, которой он управляет, а не слепо подчиняется аффекту). Только тогда происходит топическая перестройка, и воспоминание о травматическом событии будет перемещено в другой этаж топики — в библиотеку воспоминаний. Интерпретация создает мостки, по которым клиент может перейти из одной области вытесненного в другую, более глубокую и более для него опасную, поскольку она связана с неосознанным, отвергнутым и чуждым для него материалом.
Тема языков бессознательного и травмы, несомненно, связаны между собой: как понять, почему что-то становится запутанным, а что-то поддается раскодировке?
Работа "Бессознательное" (1915) будет подчинена объяснению того, как эти перемещения происходят в психическом аппарате, а работа "Жуткое" (1919) свяжет все страшное с вытесненным и внутрипсихическим. Жуткое, чужое, иностранное будут связаны позднее Юлией Кристевой с интрапсихическим и бессознательным. Все страшное и жуткое является нашим бессознательным (книга "Иностранцы сами себе").
Именно благодаря анализу иностранцев и иностранного, то есть жуткого и чужого, мы смогли приблизиться к пониманию техники возвращения в те места, где тропинки не протоптаны, но где путь можно повторить, и пройти всеми путями всех значимых ранних травм. Несомненно, использование иностранных слов и иностранного языка в анализе нам указывает топографически на пласты бессознательного, по которым клиент готов передвигаться, ибо каждое слово несет с собой метку, когда и при каких обстоятельства оно было использовано, услышано и названо, и к какому слою воспоминаний нас ведет. Все "странные", нелогичные слова в аналитической ситуации являются маркерами мостков-переходов. Поэтому первой попыткой (первым уровнем) интерпретации будут открытые вопросы с повторением этих слов.
"Мне не стыдно за нас. Я купил билеты на концерты вместо терапии. Нас будет там много таких, за которых мне не стыдно. Я буду смотреть и слушать музыкальные группы, в которых я не разочаровался после своей эмиграции. Вместо сессий".
"Стыдно" и "разочарование" — вот два слова, которые, несомненно, указывают аффективно на заряженный материал, приведший к эмиграции из родной страны. Попытка отыгрывания (разорвать терапию) указывает на аффект, с которым невозможно справиться, он требует моторной разрядки.
Про этот тип интерпретаций - работа Юлии Кристевой "Плоть слов".
Попытка интерпретации здесь будет включать первый уровень: возвращение к значимому через открытый обратный вопрос: "Концерты? Вместо терапии?" И следующий уровень интерпретации: соединение с аффективным событием: разорвать терапию как разорвать другую неочевидную связь. Интерпретацией этого уровня будет соединение по общему признаку (метонимическому) двух событий: из прошлого и из настоящего: "Вам нужно уйти из терапии, чтобы не испытать стыд и разочарование, как если бы Вы его испытали в ситуации Х". Здесь нам должна быть известна ключевая ситуация детства, внешне выглядящая как вполне невинная, поскольку к ней давно утеряны все аффективные ключи. Как правило, она рассказана как:
1) сновидение (ситуация с аффектом и без смыслов)
2) или как воспоминание, лишенное аффекта (в котором клиент должен был бы испытать стыд и разочарование, но оно отсутствует в рассказе).
Отбрасывается либо аффект, либо смысл. Об этом работы Лорана Данон-Буало.
Искусство интерпретации наполнено интуитивным материалом (индукция делает вывод на основе обобщения частных посылок, как известно, строится на соединении частного с общим – то есть подчинена закону расширения и соединения не очевидно общих свойств), в то время как кодирование следов памяти, вероятно, подчинено обратному пути (от общего к частному, то есть дедуктивному (когда "два круглых" или "два жужжащих" - признаки понятия могут быть объединены, а при этом составляющие воспоминания цепочки утеряны в процессе вытеснения). Присутствие иностранного и странного, а также связывание странного и иностранного, для нас будет маркером того, что должно быть проинтерпретировано. Более подробно надеюсь раскрыть в будущих мероприятиях.
Пока это примерные выводы по курсу из трех семинаров, которые у нас прошли в апреле-мае 2025 и будут завершены сейчас. Понятно, что предоставлен огромный теоретический материал об анализе эмигрантов самими аналитиками-эмигрантами, который надлежит усвоить.
Невозможно было бы это все понять без возвращения к самым ранним работам Фрейда: "О репрезентации слов и вещей" (1891), которая относится к доисторической, то есть допсихоаналитической цивилизации, и которая для нас полностью утеряна в силу отсутствия перевода и издания. Поистине, это микенская цивилизация, на руинах которой построено все дальнейшее, а мы остаемся зрителями музея и смотрим на остатки греческих статуй.
В дальнейшем, в новом сезоне, мы, вероятно, вернемся к теме метафоры и метонимии, к терапии речью, к клинике ортофонии детей мигрантов, к проблематике изучения иностранных языков, клинике избирательного мутизма и вытекающей из всего этого теме интерпретации и ее искусства.
До встречи!
Мы ценим регулярное образование и заботу о повышении своей квалификации!
Вы можете подписаться на наши каналы в социальных сетях. ➡
Чтобы стать участником актуальных вебинаров, нужно выбрать интересное для вас и зарегистрироваться:
РАСПИСАНИЕ вебинаров